Почему когда я, договариваясь с вами об интервью, сказал, что с уважением отношусь к вашему творчеству, вы резко ответили: «Да какое там творчество…»?
А что это за творчество?
То, что оно очень многим людям нравится, вас не убеждает, что оно все же имеет цену?
Мне оно не очень нравится — это главное… Много в кино я сыграл того, чего играть не следовало бы. Плюнул в вечность, как говорила Раневская.
Почему, когда вам что-то в своей работе не нравится, вы об этом говорите открыто и смело, а когда нравится — молчите, предпочитаете не оценивать? Причина же не только в скромности.
Если что-то нравится — не надо об этом говорить. А если не нравится — надо выкидывать это и говорить раньше, чем кто-то со стороны тебе это скажет (смеется).
Когда вы бываете собой довольны?
Очень редко.
При столь мощно развитой самокритике как вы относитесь к критике со стороны? К театральной критике, например?
«Как столб относится к собакам, так отношусь я к критикам-писакам». Это я написал довольно давно. Критику я последнее время почти не читаю. А в театре, конечно, вывешивают статьи критиков. Но я в театр очки не беру — подойду к стенду и ничего не вижу (смеется).
«В школьных спектаклях я всегда играл девочек»
Ваши родители никакого отношения к театру не имели. Но были горды, что их сын — артист?
Я был, что называется, из простой семьи. Мой отец работал юристом, прошел всю войну, был ранен, болел, работал в юридической консультации, зарабатывал очень мало. Тетка, которая работала в магазине на Кузнецком, давала мне деньги на солянку, которую готовили в столовой школы-студии МХАТ. И одевался я в перешитые отцовские штаны, пальто.
А когда я поступил в школу-студию МХАТ, мама меня спрашивала: «Чем вы там занимаетесь?». «Сегодня били в ладоши по очереди». — «Только ты никому об этом не говори» (смеется). Только потом, года через два-три кто-то ей объяснил, что такое студия при МХАТе и что если сын там учится, то значит, у него талант. Она не ходила в театр. Она меня видела один раз в Театре Сатиры, в «Женитьбе Фигаро», когда я играл с Андрюшей Мироновым графа Альмавиву. Она посмотрела спектакль и сказала: «Валя, какой же ты худой».
А отец не видел вас на сцене?
Видел, переживал… Для него был образец молодого актера — Миша Козаков. Как он одевается, какая у него бабочка, пиджак, как он говорит — вот это артист. А я…
Но в школу-то они ходили, когда вы играли в детских спектаклях?
Мама ходила. Драмкружок был в женской школе, и мы, мальчики, туда ходили заниматься.
Помните, как вы играли роль невесты в школьном спектакле «Предложение»?
Да, в школьных спектаклях я всегда играл девочек.
В своей книге вы пишете, что это было едва ли не одно из лучших ваших актерских созданий.
Если не лучшее! (Смеется.)
В вашей книге есть рассказ о домработнице Гале, которая помогала вашей семье. Она вас невольно спасла, купив фальшивый билет на поезд. Благодаря этому вы не оказались 22 июня под бомбами. Вы о ней говорите с большой любовью, а потом образ этой Гали пропадает из книги.
Я перед ней очень виноват. Она была всю войну с нами, а потом, когда кончилась война, она уехала к себе на Украину, работала в колхозе. А колхозы тогда, сами знаете, какие были: очень бедные, трудодни стоили копейки. Когда я был школьником, ездил к ней на каникулы на хутор. Я ее очень любил — она из последнего старалась. Никогда не забуду борщ украинский вкусный, с чесноком. И праздники, несмотря на то, что приходили и описывали каждую свинью и каждое дерево, хотя их всего-то было одно-два.
Когда я уже стал самостоятельным человеком, стал зарабатывать деньги, все собирался ей помочь. Но она вскоре заболела и умерла. А я все думал, успею ей помочь. Все откладывал…
Но вы, наверное, и сами тогда немного зарабатывали.
Зарабатывал я мало. Но я мечтал приехать к ней на машине, и чтобы меня все увидели на этом хуторе (смеется). Не довелось. Вообще, я часто вспоминаю то время — и как мы играли на поле в футбол, и как я забивал голы, играя за местный хутор. Мне тогда казалось, что я мог бы стать и футболистом.
А парк «Сокольники» сороковых — начала пятидесятых годов вам вспоминается?
Ну конечно, вспоминается. Сокольники, танцплощадка, каток, Ширяево поле, «Спартак», Николай Озеров, с которым я впоследствии познакомился. Тогда я был школьником и ходил смотреть, как он играет в футбол и теннис на Ширяевом поле. Помню, жара, на Озерове несколько свитеров — он старался таким образом похудеть, — и он играет, играет, играет…
«Я подумал, что Берия похож на шпиона»
Как менялось ваше отношение к Сталину? Когда вы поняли, что это на самом деле была за фигура?
Когда умер Сталин, к нам пришел близкий знакомый нашей семьи, взял стоявшего у отца на столе глиняного Сталина и выкинул в окно. Мать чуть с ума не сошла: «Что ты делаешь!». И он стал говорить, кто такой Сталин, и я первый раз услышал плохие слова о великом Сталине. Хотя уже тогда среди нас, мальчишек нашего двора, порой проскальзывали разговоры о том, что как странно получается — в доме нет ни одной семьи, у которой бы кого-то не посадили. Когда кругом почти все — дети врагов народа, когда полдвора расстреляно, конечно, ты начинаешь догадываться, что что-то не так.
А с другой стороны, все кричат: «За родину, за Сталина!». И все идут в бой за Сталина, и строят для Сталина, и он самый великий и многозначительный… Но понимание того, что это была за фигура, приходило ко мне постепенно. Как и ко всем, наверное.
А когда я сдавал какие-то экзамены, главное было привести цитату из Сталина, и тогда учителя были к тебе снисходительны. А на уроке географии нужно было при любом вопросе учителя показать в район Грузии и отчеканить: «Здесь родился Сталин!». «Садись, пять», — отвечал учитель (смеется). Большинство его любило, не представляло себе жизни без него.
Я был на похоронах вождя, но в Дом союзов так и не попал. Была страшная давка. Мы с Володей Кругловым, моим приятелем, провели ночь в подъезде, но так до Дома союзов и не дошли. Одного мальчика из нашего класса задавили.
Через день, когда Сталина похоронили, на Красной площади я видел Берию, и это произвело очень сильное впечатление — речь Берии и сам он. Лицо Берии было почти закрыто, сверху была шляпа, надвинутая по самые брови, воротник поднят так, что виден был только говорящий рот и пенсне. Тогда я подумал, что он похож на шпиона (смеется). Я, кстати, недавно играл в фильме «Мастер и Маргарита» (в новой картине, которая пойдет, вероятно, в ноябре) чиновника бериевского типа, и мне то впечатление очень помогло…
В своей книге вы пишете, что ваш двор был бандитский. Почему, как вы думаете, многие с некоторой гордостью говорят, что у них был бандитский двор?
Это были бандиты, совсем не похожие на современных…
То есть тогда и бандиты были лучше?
Они просто были свободнее, чем другие, смелее, физически сильнее. Они как псы защищали свою территорию.
Понимаю, что сравнивать времена невозможно, но все же когда вы чувствовали себя более защищенным? Или, грубо говоря, более комфортно? И было ли вообще такое чувство?
Все это связано с твоим возрастом, а не со временем, в котором ты живешь. Мы, как и все, жили в общей квартире, в маленькой комнате. В восемнадцатиметровой комнате мы жили вчетвером — мать, отец, сестра и я. Я не знал, что это такое — иметь отдельную квартиру. А когда узнал, что у моего приятеля отдельная квартира, я не поверил. И подумал, что кто-то просто на время выехал. А потом, когда я женился, условия совсем ухудшились — соседей было, кажется, человек сорок и столько же кошек и собак.
А сейчас, в начале XXI века многие живут точно так же. Отъезжаешь сто пятьдесят километров от Москвы, видишь, как живут люди, и все тебе становится ясно. И попробуй еще доехать по этим дорогам. И думаешь — неужели за целый век нельзя здесь было сделать дороги? Или чтобы у людей в домах горел свет и была чистая вода? Ничего не сделано! А сколько людей у нас живут так? Живут и, кстати, улыбаются еще.
«Челси» пока не подводит губернатора Чукотки»
У вас есть эпиграмма об актерах, которая заканчивается так: «Чужую жизнь играю как свою, а стало быть, свою играю как чужую». У вас в последнее время были моменты, когда вы понимали, что проживаете не вполне свою жизнь?
Вообще, лучше не думать о том, что когда-то написал (смеется). Профессия такая: в жизни что-то накапливается, а потом это проявляется или не проявляется на сцене. И это, конечно, опасно: можно превратить себя не в человека, а в артиста — и в жизни, и на сцене, где все идет на продажу.
Вы не любите пафосных слов, но ведь нельзя никуда уйти от вопросов о цели: зачем я сегодня выхожу на сцену?
Чтобы первое слово сказать, затем и выхожу.
А потом — второе?
Если повезет — второе. А дальше — как пойдет. Это игра. Можно проиграть, как недавно «Локомотив». Выходили хорошо, а самого главного не сказали.
Какой самый запоминающийся матч в вашей жизни?
Много! Я же с десяти лет ходил на футбол. Много было интересных послевоенных матчей. Наши уезжали в Англию, и я удивляюсь, что мы, мальчишки, уже знали все названия клубов — «Челси», других, знали имена игроков. И спорили, как могут сыграть наши с англичанами… Хотя не смотрели телевизоры, которых не было, а слушали картонное радио… Но я сейчас, к сожалению, на стадионе бываю редко, хотя очень люблю это романтическое и притягивающее к себе пространство. Раньше даже любил один посидеть на стадионе в тишине.
Как вы относитесь к тому, что «Челси», о котором вы спорили со своими друзьями, приобрел губернатор Чукотки?
Надо сказать, что «Челси» пока не подводит этого человека (смеется). Десять-пятнадцать лет назад это нельзя было даже нафантазировать.
По законам жанра я должен спросить: а как живут два творческих человека вместе — Валентин Гафт и Ольга Остроумова?
Очень хорошо живут. Никаких домашних споров и взаимных восхищений.
Но вы же обсуждаете работы друг друга, проблемы в работе над ролью?
Да. Оля делает очень много точных подсказок, помогает разбираться в роли.
Какой след оставила работа с Анатолием Эфросом?
Она повлияла на всю жизнь. Просто повезло мне, что я познал такое. Он снимал с актера штампы. Я работал с ним несколько лет в «Ленкоме», а потом перешел на Бронную и там сыграл несколько ролей и даже несколько раз Отелло. Но потом мы не сошлись с главной героиней этого театра, с Ольгой Яковлевой. Но она, конечно, целая эпоха в театре Эфроса.

Что вас сейчас увлекает кроме театра?
Я не работал очень давно, поэтому как раз сейчас увлекает именно театр. Ведь ты сам не знаешь, что с тобой происходит, когда ты бездействуешь, от чего ты очищаешься, что приобретаешь. Но это происходит. Мне надо проверить.
«Я поднял эту женщину и вынес из театра»
Ваши коллеги говорят, что вы стали менее саркастичным и язвительным.
Возможно. Но я и не был никогда таким. Я эпиграммы писал для удовольствия, для радости. А сейчас исчезло. Не хочется обижать людей. Кончилась та естественность и легкость. Я стал лучше относиться к людям, я по-другому на них смотрю.
Вследствие чего?
Само произошло. Никто меня не наказывал. Просто время пришло.
Подобреть? Или как это назвать?
Наверное, подобреть… Хотя я никогда не был злым. Но эпиграммы больше не пишу. Не хочется.
Какое человеческое качество у вас неизменно вызывает смех?
Глупость. Иногда жалко становится человека. Например, одному чтецу я как-то написал: «Ошибка у него в одном, он голос путает с умом».
Вы очень серьезно занимались спортом. Вам не приходилось применять силу в последнее время?
Пришла какая-то женщина к Лие Ахеджаковой на служебный вход и говорит: «Верните мне деньги за билеты. Ерунда, которую я посмотрела, денег не стоит». А женщина здоровая такая. Ну я ее поднял и вынес из театра, хотя Лия деньги ей вернула.

Никогда не думали профессионально заняться спортом?
Нет. Но футбол люблю смотреть. Все никак мы не можем научиться выигрывать в решающий момент. И талантливых людей много, но пока не получается. Я думаю, история страны, история жизни людей очень повлияла и на спорт. Покоя нет. А поэтому не хватает энергии мысли. Легкости, безответственности. Вся игра идет кусочками рваными. Свободы в игре не хватает, как и в нашей жизни.
Но люди в спорте очень изменились, они стали совсем другие. Например, я недавно слышал интервью с вратарем «Локомотива» Сергеем Овчинниковым, и это было гораздо интереснее, чем интервью с человеком, который занимается самой интересной творческой работой. Откровенно и умно.
Футбол — игра трудная, очень похожа на театр. Только драматургия не написана. И вместо тренера у нас главный режиссер. Но вся подготовка, внутренние проживания, ошибки, комплексы, усталость, повторы — все очень похоже на нашу профессию, поэтому я футболистов понимаю очень хорошо.
Но сейчас на сцене возможно все, можно раздеться, можно совокупиться. Считается, что это новые выразительные средства. Но разве для этого люди ходят в театр? Ведь все это, вместе взятое, может быть выражено гораздо глубже, совершенно иными средствами. Теперь трудно понять, где театр, а где шоу.
«Я и не знал, что меня называют секс-символом. Пребывал в счастливом неведении»
Кстати, одно время вас называли секс-символом.
Я не знал про это. Пребывал в счастливом неведении. Сейчас очень хорошего артиста Александра Балуева называют секс-символ. Я думаю, что он заслуживает большего, он гораздо шире, чем секс-символ… Такое неприятное название, кажется, что-то из аптечных товаров.
Например: мне, пожалуйста, парочку секс-символов. Большой и маленький.
Вот-вот (смеется). Это название, по-моему, унизительно.
Если бы у вас была возможность пережить какие-то события своей жизни еще один раз, что бы вы захотели повторить?
Я испытал несколько очень тяжелых ударов. И не хотел бы, чтобы это повторялось.
А хорошие?
Нет, не надо повторять. Пусть будет хорошее новое. Но такое вряд ли уже будет… Хотя кто его знает?
Вы скажете что-нибудь, а потом смотрите в сторону. Кажется, вы все время думаете о чем-то другом.
Думаю о следующем интервью с вами. Думаю о том, чего еще не сказал. И о том, о чем вы не спросили.
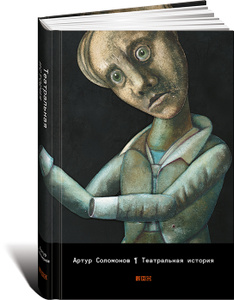 |
Роман «Театральная история» Артура Соломонова — купить с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
Интервью было опубликовано в газете «Известия» 02.09.2005

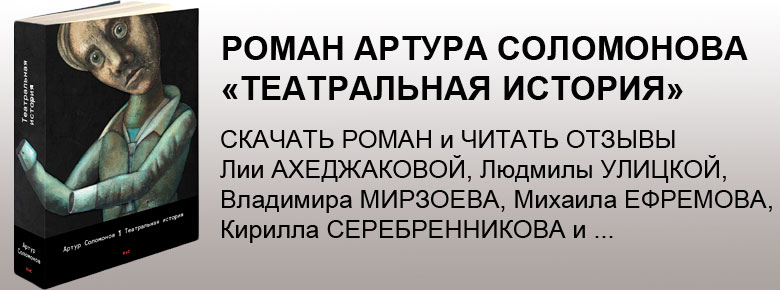
Ваш комментарий будет опубликован сразу после модерации.