28 мая исполняется 50 лет режиссеру Михаэлю Тальхаймеру.
Михаэль Тальхаймер — один из ведущих немецких режиссеров. Его спектакли участвуют во всех крупных международных театральных фестивалях. У него уже появилось немало подражателей, и в немецкий театральный сленг вошел термин «тальхаймеризация».
Артур Соломонов встретился с Михаэлем Тальхаймером на фестивале Theatertreffen-2007 вскоре после премьеры спектакля «Орестея» по трагедиям Эсхила.
 Тальхаймер появился на интервью в коричневой куртке и с разбитыми очками.
Тальхаймер появился на интервью в коричневой куртке и с разбитыми очками.
Не подумайте, что у меня такой имидж. Очки разбила моя дочь.
За что?
Ей полтора года. В этом возрасте все делают просто так. (Смеется.) Но к интервью я вполне готов. Какой Ваш первый вопрос?
В Вашем спектакле «Орестея» льются потоки крови. Вам не кажется, что капля крови производит большее впечатление, чем фонтан?
Абсолютно согласен с Вами. Но ведь все зависит от пьесы. В «Фаусте» или в «Эмилии Галотти» я следовал как раз тому принципу, о котором Вы говорите. Когда мы ставим пьесы такого рода, капля крови производит громадное впечатление. Но в случае с древнегреческой трагедией, чтобы передать ее ярость и ужас, нужно было применить именно такие способы воздействия.
В «Орестее» убийцы убивают убийц, их место занимают другие преступники, слепо подчиняющиеся закону «око за око, зуб за зуб». Наверняка на репетициях Вы задавались вопросом: что может остановить этот нескончаемый поток преступлений и смертей?
Это самый главный вопрос. Еще до начала трагедии «Орестея» произошло убийство. Чем дальше идет действие, тем больше льется крови, и поток ее уже неостановим. У Эсхила «Орестея» заканчивается судом. И все приходит к порядку, гармонии. Суд разрывает круг насилия. В немецких школах на уроках учитель говорит школьникам, что суд, который происходит в финале «Орестеи», — день рождения демократии. Но я не верю, что демократия может остановить круг насилия. В США установлена демократия, и разве можно сказать, что эта страна не несет насилия?
У Эсхила есть боги, а в Вашей постановке — нет.

Я убрал богов, потому что их существование снимает с человека часть вины. Всегда у греческих авторов часть ответственности за деяния человека берут на себя либо боги, либо судьба. Но мы-то знаем: рай пуст, а Олимп необитаем. А потому каждый герой и каждый человек несет ответственность за то, что творит.
На премьере Вашего спектакля «LILIOM» в Гамбурге в 2000 году произошел скандал, после которого, собственно, Вас и начали приглашать во все знаменитые немецкие театры. Мэр Гамбурга вскричал во время спектакля: «Так играть нельзя!» Что так возмутило мэра?
Мэр Гамбурга был уже пожилым человеком. У него был очень буржуазный взгляд на то, каким должен быть театр: на сцене должны находиться прекрасные люди, которые благостными речами услаждают слух публики и ведут всех нас к идеалам правды и добра. Театр получает деньги из казны города, и потому мэр, наверное, имел право высказать свою точку зрения, которая, конечно, кардинально не совпадает с моей. Я полагаю, что театр должен быть провокационным. Если есть в обществе раны, театр должен не залечивать их, не говорить, что все будет хорошо, а бередить эти раны, грубо говоря, вкладывать туда палец. Только тогда он выполнит свой долг перед публикой. Сейчас пришло другое поколение зрителей, которое, слава Богу, не ожидает от театра успокоения и полетов в мир грез. Мэр Гамбурга представлял ту часть публики, которая хочет, чтобы театр ее убаюкал. Она, конечно, по-своему права, но для удовлетворения таких интересов ей нужно искать другие театры.
Но этот крик мэра в театральном зале Гамбурга подстегнул Вашу карьеру. Мэр, сам того не желая, сделал Вам превосходный пиар.
Знаете, в какой момент раздался этот вопль? Главная героиня убивала себя ножом. Она делала это не так, как обычно это происходит в театре — один удар под сердце, легкий стон и красивое падение. Нет. Она делала это так, как часто случается в жизни — она не могла убить себя семь минут, совершала одну попытку за другой. Вот этой правды и не выдержал мэр.
Немецкие критики называют Вас «мастером сокращений». По какому принципу Вы сокращаете тексты классиков?
Перед началом репетиций я внимательно читаю текст. Моя задача — оставить от пьесы «концентрат». Концентрат смысла и, главное, действий главных героев. Все же основная моя задача — рассказать историю от события к событию. Все второстепенное отсекается, я сосредотачиваю внимание зрителя только на основных действующих лицах и на главных происшествиях.
Как Вы принимаете решение: этот эпизод главный, а этот — второстепенный? Все же у Гете или у Эсхила были кое-какие свои соображения, и они не случайно не делали из своих пьес «концентрат». Где граница Вашей свободы? Когда Вы чувствуете, что еще несколько операций по сокращению — и пьеса будет разрушена?
Есть пьесы, из которых я удаляю очень много текста, а есть произведения, которые я оставляю неприкосновенными. Текст я сокращаю вместе со своим помощником. Когда выкристаллизовывается основная идея постановки и становятся очевидны главные сокращения, я проверяю свои идеи на актерах. Это самый главный момент. Ведь придумать можно все что угодно, но если твои идеи мертворожденны, актер не сможет их воспринять. Возникнет конфликт актера и идеи, который я сразу почувствую. Так что мое «мастерство сокращений» проходит каждый раз очень серьезное испытание.

Если Вы так вольно обходитесь с классиками, значит, грубо говоря, считаете, что не все в их текстах пригодно для Ваших постановок. Почему Вы не закажете современному драматургу текст на интересующую Вас тему? Вы же почти не замечены в «порочащих связях» с современной драматургией.
Я читаю современные пьесы и вынужден признать, что хороших текстов создается очень мало. Я порой ставил современную драматургию, но не могу сказать, что очень хочу продолжить эти «встречи». Пока это так. Главное, что отличает классиков от авторов нашего времени, — мощный, богатый язык и полное грандиозных противоречий, но все же цельное мировоззрение. Я понимаю, на чем оно основано, на чем оно держится. Если я вступаю в спор с этим мировоззрением, то четко сознаю, с чем конкретно я не согласен, что мне чуждо. И потому я должен по-режиссерски доказать свое несогласие. В большинстве современных пьес мировоззрение автора понять нельзя. Все расплывается, растекается. Это часто просто набор слов, более или менее ярких. В современных текстах нет героев. Я понимаю, что на это есть объективные причины, заложенные в нашем времени, но мне интереснее ставить тексты, где есть мощные герои, которые говорят ярким, поэтическим языком.
Что объединяет режиссеров Вашего поколения?
Вы же посещаете спектакли фестиваля Theatertreffen. Замечаете, как резко отличаются мои спектакли от постановок Николаса Штемана, Яна Боссе, других режиссеров? Между нами, слава Богу, ничего общего. Это и составляет предмет интереса для публики.
(Пытаясь сформулировать новый вопрос по-немецки, я произношу его сначала по-русски. Тальхаймер улыбается.)
Вы понимаете по-русски?
Нет, мне просто нравится слушать русскую речь. Я дважды был в Москве, ходил в театры, ничего не понял, но мне очень нравилось слушать звучание вашей речи.
Что Вам понравилось в московских театрах?
Я видел очень хороший спектакль… забыл его название… «Беременная комсомолка»?
«Голая пионерка» Кирилла Серебренникова в «Современнике»?
Да-да! Интересная постановка.
Какие театральные впечатления Вас сформировали?
Я не могу сказать, что смотрю спектакли какого-то режиссера и думаю: «Вот так я бы хотел ставить!» Я никогда не хотел принадлежать к группе режиссеров, которые декларируют какие-то общие эстетические принципы. Но для меня был очень важен Айнар Шлееф. Мне очень грустно, что его больше нет. Когда Роберт Уилсон приехал в Европу и начал здесь ставить, это стало для меня открытием. Сейчас творчество Уилсона перестало представлять для меня интерес — он повторяется. Может быть, это уже не искусство. Франк Касторф и Кристоф Марталлер всегда вызывали у меня большое уважение.
Бывает такое, что Вы смотрите какие-то спектакли и думаете, что так играть — настоящее преступление перед зрителем?
Кого я ненавижу? Двух старых немецких режиссеров — Петера Штайна и Петера Цадека. Они раздуваются от гордости за свои прошлые успехи и на каждом шагу ругают молодежь за тот театр, который она создает. Они не скрывают чувства обиды на то, что не получают должного количества уважения от театральной среды. Когда я смотрю их спектакли, понимаю, что они совсем не чувствуют время, в котором живут. Они остались в прошлом, и это совершенно нормально.
Когда я делал интервью с Петером Штайном, он очень презрительно отзывался о новом поколении немецких режиссеров и актеров, в том числе и о Вас.
Ну конечно! Я столько раз слышал эти высказывания. Это так странно! Вообще глубоко наивно думать, что театр — это только то, что делаешь ты. Но я не понимаю, почему и Штайн, и Цадек не могут припомнить, как в то время, когда они вступали в профессию, режиссеры старшего поколения произносили против них те же самые речи, которые они теперь произносят против нас. Вот чего я в толк никак не возьму. Сейчас они передают этот упрек молодым режиссерам как эстафету от тех, кто их предавал анафеме. Нелепо? По-моему, да. Когда я постарею, надеюсь, не повторю этой очень распространенной ошибки.
Вы сказали, что Уилсон Вам стал неинтересен, поскольку давно повторяется. А Вы стремитесь к тому, чтобы себе противоречить? Хотите поставить спектакль, по которому нельзя было бы понять, что его режиссер — Тальхаймер?
Сначала критики ищут, как бы определить индивидуальность режиссера, потом находят это определение и по прошествии некоторого времени начинают требовать обновления его стиля. То есть, по сути, требуют, чтобы режиссер стал сам на себя не похож. Но мне странно, что критики хотят, чтобы режиссер все время менялся. Ну я такой, какой есть, зачем мне себя менять? У меня свои вопросы к жизни, к пьесам. Если я захочу делать что-то новое, то не потому, что мне советует это какой-нибудь отдел культуры и какой-то конкретный критик. Недавно я поставил оперетту «Летучая мышь» — для меня это новый этап, незнакомый материал. Но я сделал это отнюдь не потому, что мне это советовали журналисты. (Смеется.) Ведь почему-то от живописцев не требуют, чтобы они всегда были другими, чтобы постоянно меняли почерк. Все говорят: это стиль Дега, это Рубенс, это Ван Гог. А вот режиссеры почему-то должны все время поражать театральных критиков и определенную часть публики новизной стиля. По-моему, это просто чепуха, в которой у меня нет желания участвовать. А может быть, режиссера волнует какая-то одна тема, и от постановки к постановке он стремится раскрыть ее все глубже, взглянуть на нее с разных ракурсов, пользуясь для этого разными текстами? Это же так понятно.
А если вот так по-простому спросить: какие вопросы из пьесы в пьесу Вы разрешаете?
Это детские вопросы: возможна ли в этом мире любовь, почему вообще возник этот мир? Для какой цели? Эти вопросы элементарны, но они меня очень волнуют.
Тогда я задам детский вопрос: зачем Вы вообще ставите спектакли? Вы хотите изменить что-то в мире с помощью искусства? Или это способ самопознания и познания жизни?

Я пытаюсь описывать реальность. И ставлю те вопросы, о которых сказал. Я не думаю, что театр может изменить человека — это было бы с моей стороны наивно. И не думаю, что я мог бы с помощью театра измениться: спектакль — это не сеанс психоанализа. Но в театре можно поставить все волнующие нас вопросы так откровенно и открыто, как ни в одном другом виде искусства. Здесь ты видишь и чувствуешь, что другие живые люди страдают так же и мучительно разрешают те же вопросы. У меня нет ответа на эти вопросы, и было бы глупо, если бы я уверял зрителей, что обладаю истиной и знаю, как они должны жить. Но мы можем оказаться в одном пространстве, вместе испытать потрясение от того, что ничего не знаем. Или от того, что мы, как на «Орестее», задумаемся, как положить конец бесконечной истории преступлений. Очень важно, что мы проживаем это вместе — в этом сила театра. Когда мы сообща задаемся каким-то вопросом, мы хотя бы на время лишаемся того чувства одиночества, которое каждый из нас испытывает, сталкиваясь с проблемами метафизического порядка.
Материал был опубликован в журнале The New Times 28.05.2007
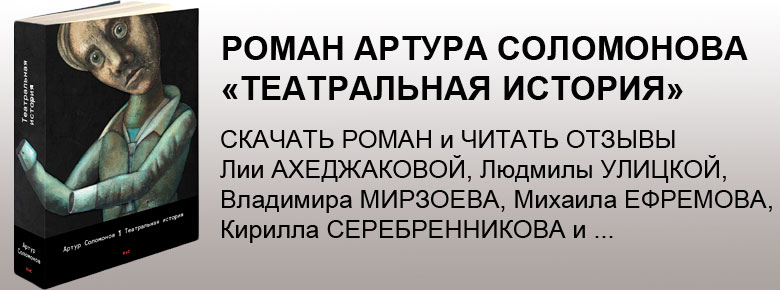
Ваш комментарий будет опубликован сразу после модерации.